Благодаря отцу нашего коллеги из БЕЛТА – Илье Макаровичу Карабликову, в редакцию «7 дней» попали уникальные материалы: воспоминания детей, которым в «сороковые-роковые» было не больше 10 лет. Эти истории о том, как девочки и мальчики без родителей и близких выживали в концлагерях, трудились почти наравне со взрослыми, пухли от голода.
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БЕЛТА И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

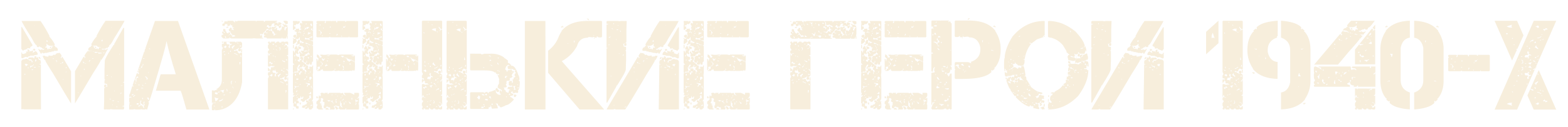

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БЕЛТА И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«Наступило наше время нести правду о войне, защищать священную память. Мы, мальчики и девочки 40-х, приняли у ветеранов эстафету памяти.
Жители Беларуси дольше, чем население других союзных республик, находились под фашистской оккупацией. Нацисты создали у нас лагеря смерти, где выкачивали для своих солдат кровь из малолетних узников, а похожих на «арийцев» детей отправляли в Германию, чтобы воспитать рабами, ненавидящими СССР.
Узники концлагерей, которые были освобождены американскими и английскими войсками, рассказывают о том, как активно велась пропаганда миграции в США или западные страны. Но белорусы в большинстве своем оказались патриотами Родины: вернулись в деревни и города, часто на пепелище своих домов.
Дети войны окончили школы в труднейших условиях, затем поступили в институты и достойно трудились. Уйдя на пенсию, они продолжают активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи».
Жители Беларуси дольше, чем население других союзных республик, находились под фашистской оккупацией. Нацисты создали у нас лагеря смерти, где выкачивали для своих солдат кровь из малолетних узников, а похожих на «арийцев» детей отправляли в Германию, чтобы воспитать рабами, ненавидящими СССР.
Узники концлагерей, которые были освобождены американскими и английскими войсками, рассказывают о том, как активно велась пропаганда миграции в США или западные страны. Но белорусы в большинстве своем оказались патриотами Родины: вернулись в деревни и города, часто на пепелище своих домов.
Дети войны окончили школы в труднейших условиях, затем поступили в институты и достойно трудились. Уйдя на пенсию, они продолжают активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи».

«В июле немцы оккупировали Вильнюс, на окраине которого в деревянном доме жили мои родители. Мама была еврейкой, поэтому, когда в июле 1941 года фашисты начали массово истреблять нацию, у нее почти не было шансов выжить. Согласно документам, хранящимся в Вильнюсском еврейском музее, только за несколько дней середины июля 1941-го в Вильнюсе зверски уничтожены 49 тыс. евреев. Мама была среди них. Я чудом остался жив».
Илья Макарович Карабликов (справа)
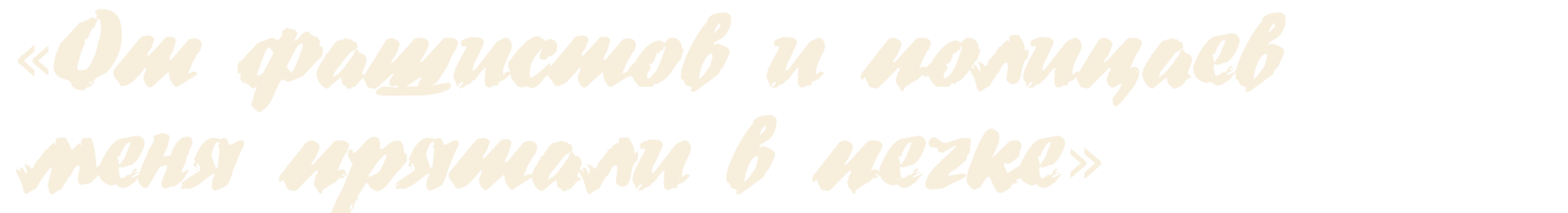

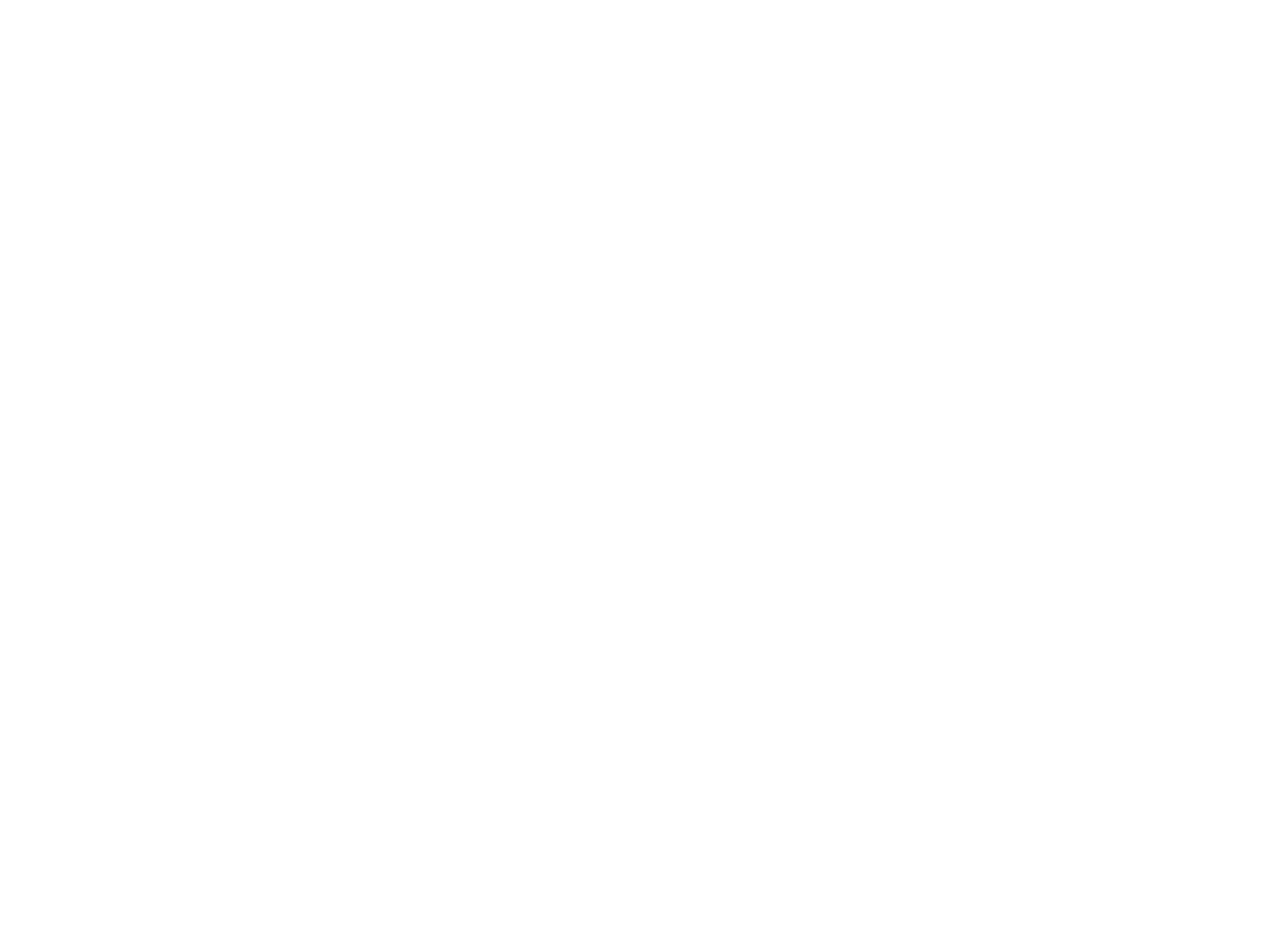
«Мне было полгода, когда погибла мама. Отец зверски замучен в вильнюсском гестапо в феврале 1944-го. О них я узнал от своей бабушки Евдокии Харлампиевны. «Они были красивой парой и очень любили друг друга. А как они радовались твоему появлению!» – говорила она.
Меня, грудного, выходили бабушка Евдокия и тетушка Фетиния, которая была старше моего папы на 10 лет и заменила мне мать.
Наш дом находился между аэропортом и железнодорожной станцией – стратегически важными объектами, поэтому здесь шли ожесточенные бои. Жители нашего района спасались от бомб и мин в подвалах или «схронах» – самодельных убежищах. Я до сих пор чувствую их запах. В нашем саду в 20 метрах от дома была вырыта крошечная землянка, внутрь которой мы, дети, могли проникнуть только ползком. В основном спасались от бомбежек и обстрелов в погребе у соседей.
Но самым надежным местом, в котором меня прятали во время облав, была русская печь. Ее я хорошо помню. Печь была такой большой, что занимала почти три четверти кухни. На ней была огромная лежанка – наше с братом любимое место, где мы долгими зимними вечерами слушали рассказы о нелегкой бабушкиной жизни. Внизу печки был подпечек, где хранились ухваты, кочерги и сушившиеся поленья. Там меня и прятали от немцев, полицаев.
На нашем картофельном поле в глубоком окопе стоял танк. Возле него на кухне немецкие солдаты жрали колбасу и весело болтали. Я тогда был настолько голодный, что до сих пор помню запах той колбасы. Мне было 3 года.
Бабушка долгими вечерами молилась. Она надеялась, что вернется мой отец. Только в 1948 году мы узнали: он был жестоко замучен в гестапо и посмертно представлен к награждению орденом Ленина.
Я и мой брат Сергей безмерно благодарны своим спасительницам – Евдокии и Фетинии. Их имена навечно записаны на аллее Праведников мира Национального мемориала Катастрофы и Героизма (Яд ва-Шем) в Иерусалиме. В этом же мемориале в списке жертв вильнюсского гетто есть имена моего дедушки Иосифа и бабушки Тамары Троцких, моей матери Блюмы Карабликовой (Троцкой)».
Меня, грудного, выходили бабушка Евдокия и тетушка Фетиния, которая была старше моего папы на 10 лет и заменила мне мать.
Наш дом находился между аэропортом и железнодорожной станцией – стратегически важными объектами, поэтому здесь шли ожесточенные бои. Жители нашего района спасались от бомб и мин в подвалах или «схронах» – самодельных убежищах. Я до сих пор чувствую их запах. В нашем саду в 20 метрах от дома была вырыта крошечная землянка, внутрь которой мы, дети, могли проникнуть только ползком. В основном спасались от бомбежек и обстрелов в погребе у соседей.
Но самым надежным местом, в котором меня прятали во время облав, была русская печь. Ее я хорошо помню. Печь была такой большой, что занимала почти три четверти кухни. На ней была огромная лежанка – наше с братом любимое место, где мы долгими зимними вечерами слушали рассказы о нелегкой бабушкиной жизни. Внизу печки был подпечек, где хранились ухваты, кочерги и сушившиеся поленья. Там меня и прятали от немцев, полицаев.
На нашем картофельном поле в глубоком окопе стоял танк. Возле него на кухне немецкие солдаты жрали колбасу и весело болтали. Я тогда был настолько голодный, что до сих пор помню запах той колбасы. Мне было 3 года.
Бабушка долгими вечерами молилась. Она надеялась, что вернется мой отец. Только в 1948 году мы узнали: он был жестоко замучен в гестапо и посмертно представлен к награждению орденом Ленина.
Я и мой брат Сергей безмерно благодарны своим спасительницам – Евдокии и Фетинии. Их имена навечно записаны на аллее Праведников мира Национального мемориала Катастрофы и Героизма (Яд ва-Шем) в Иерусалиме. В этом же мемориале в списке жертв вильнюсского гетто есть имена моего дедушки Иосифа и бабушки Тамары Троцких, моей матери Блюмы Карабликовой (Троцкой)».
«Говорят, у нас не было детства. Оно было... Но какое! Вспоминать страшно. Когда началась Великая Отечественная война, мне было 10 лет. В 1943 году жителей улицы Гомельская, что в Гомеле, погнали на станцию Костюковка, погрузили в товарные вагоны и увезли в город Бранденбург».

Мемориальный комплекс на территории
концлагеря Заксенхаузен
концлагеря Заксенхаузен


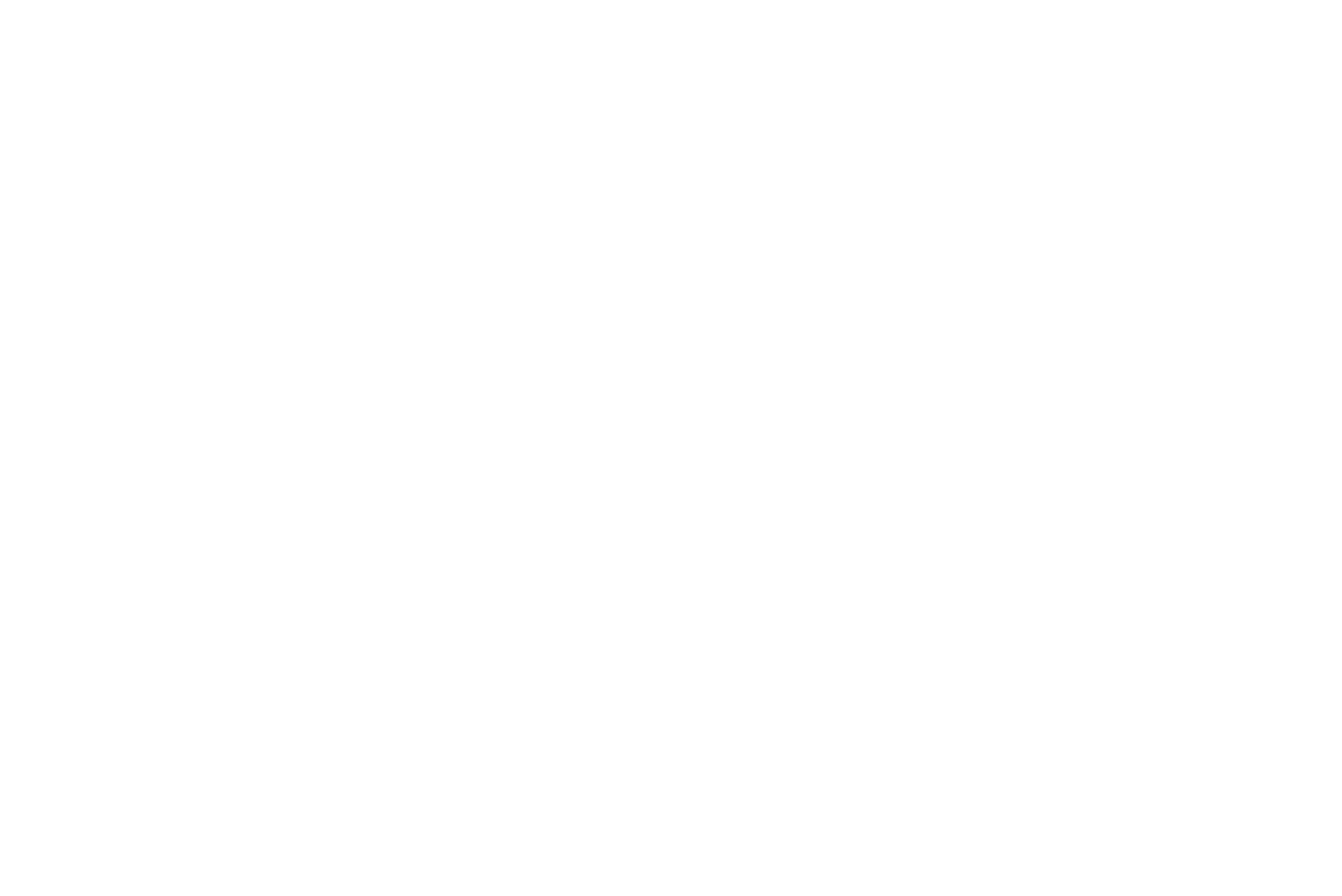
«Там к нам подошел немец и через переводчика объяснил: мы должны пройти дезинфекцию, чтобы отправиться на работу в Германию. Приказали раздеться, повели в длинное одноэтажное здание, похожее на барак. Там пахло чем-то неприятным. В конце коридора открылась дверь, нас стали заталкивать за нее прикладами. Я, мама, бабушка и тетя шли в числе последних. Когда за нами закрылась дверь, пол в противоположном конце комнаты начал быстро опускаться. Люди заскользили вниз, в провал, откуда полыхала жара. Мама одной рукой уцепилась за ручку двери, а другой держала меня. За нас ухватилось еще несколько человек. Конечно, так долго мы бы не продержались, но... вдруг пол начал подниматься. Меньше 10 человек остались в живых. Почти без сознания, уцепившихся друг за друга, нас вытащили в коридор и бросили на какую-то одежду. Переводчик, улыбаясь, объяснил: произошла ошибка. «Баня» предназначалась для другой группы. Затем нас затолкали в грузовики и повезли в город Эберсвальде в 70-90 км от Берлина. Кругом лес, бараки, огражденные колючей проволокой, конвой, вышки с часовыми и изможденные люди.
Под землей находился военный завод, где работали взрослые. Мы, дети, убирали территорию, мыли полы, чистили брюкву в столовой. Жили в бараках по 16 человек в комнате. Ели два раза в день: утром и вечером. Детям давали хлеба по 150 граммов, работающим взрослым – по 300. В основном варили брюкву, иногда – перловую кашу. Через несколько месяцев от такого питания многие начали болеть. Их увозили куда-то. Безвозвратно.
Особенно врезалась мне в память жизнь наших военнопленных. Они были здесь же, но за колючей проволокой. Я каждый день видела, как утром подъезжала машина и их трупы, как дрова, бросали туда. Живые солдатики, когда мы шли из столовой, жадно глядели нам вслед. Иногда мы зажимали в кулачки остатки брюквы и тайком перебрасывали ее через проволоку. Пленные с землей выгребали эти кусочки... Такое разве забудешь?».
Под землей находился военный завод, где работали взрослые. Мы, дети, убирали территорию, мыли полы, чистили брюкву в столовой. Жили в бараках по 16 человек в комнате. Ели два раза в день: утром и вечером. Детям давали хлеба по 150 граммов, работающим взрослым – по 300. В основном варили брюкву, иногда – перловую кашу. Через несколько месяцев от такого питания многие начали болеть. Их увозили куда-то. Безвозвратно.
Особенно врезалась мне в память жизнь наших военнопленных. Они были здесь же, но за колючей проволокой. Я каждый день видела, как утром подъезжала машина и их трупы, как дрова, бросали туда. Живые солдатики, когда мы шли из столовой, жадно глядели нам вслед. Иногда мы зажимали в кулачки остатки брюквы и тайком перебрасывали ее через проволоку. Пленные с землей выгребали эти кусочки... Такое разве забудешь?».
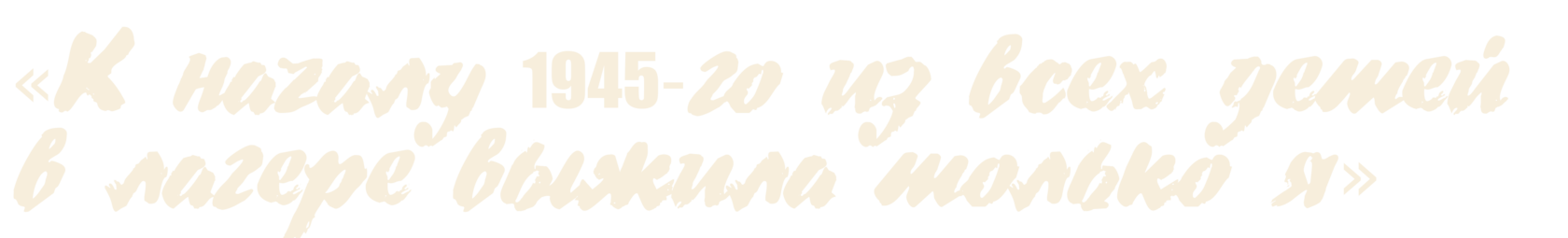
«Мне было пять, когда фрицы оккупировали деревню Давыдовка. Мы жили в погребе, а они – в наших домах. В конце ноября 1943 года нас увезли в товарных вагонах из Бреста в карантинный лагерь в Зальценбурге. Все были больны корью, а после санобработки холодным душем большинство получили еще и воспаление легких. После этого многие умерли».
Узники концлагеря


«OST»
Все были одеты в серо-голубые халаты с надписью «OST».

«Мою семью отправили в город Меппен в трудовой лагерь Павель. Рядом был лагерь для немецких дезертиров. Они иногда кидали остатки пищи на нашу часть и смеялись, видя, как голодные малыши набрасывались на пустую консервную банку, чтобы пальчиком достать оттуда что-нибудь.
Детям паек был не положен, потому что они не работали. Все были одеты в серо-голубые халаты с надписью «OST». Жили в низких бараках, спали на трехъярусных полках, покрытых одеждой умерших. Кормили нас резаной брюквой, репой, фасолью в стручках и чечевицей. От недоедания узники умирали каждый день. Многие пухли от голода. К началу 1945 года из всех детей осталась только я. И то была на грани смерти. До освобождения дожила чудом».
Детям паек был не положен, потому что они не работали. Все были одеты в серо-голубые халаты с надписью «OST». Жили в низких бараках, спали на трехъярусных полках, покрытых одеждой умерших. Кормили нас резаной брюквой, репой, фасолью в стручках и чечевицей. От недоедания узники умирали каждый день. Многие пухли от голода. К началу 1945 года из всех детей осталась только я. И то была на грани смерти. До освобождения дожила чудом».
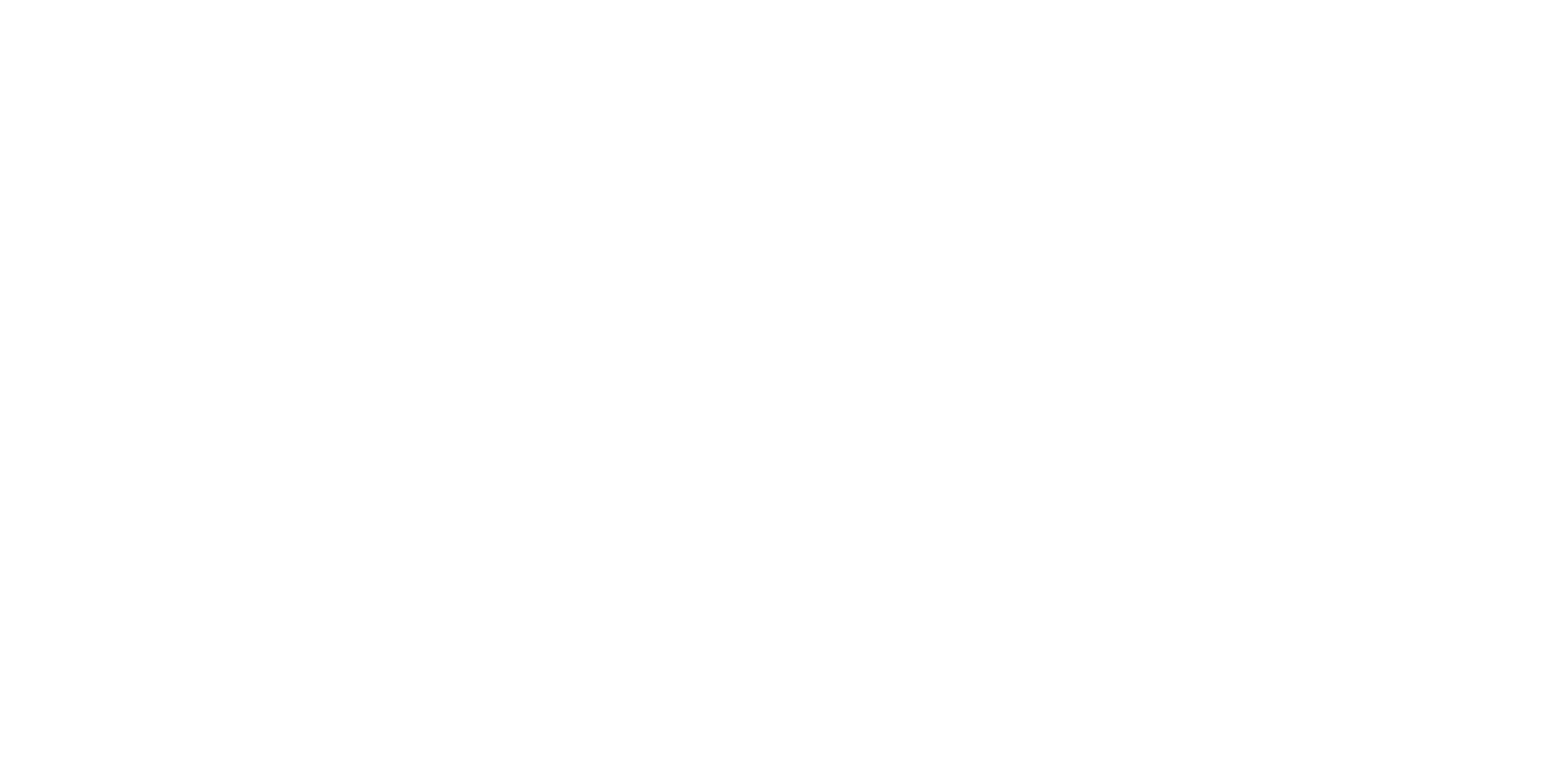

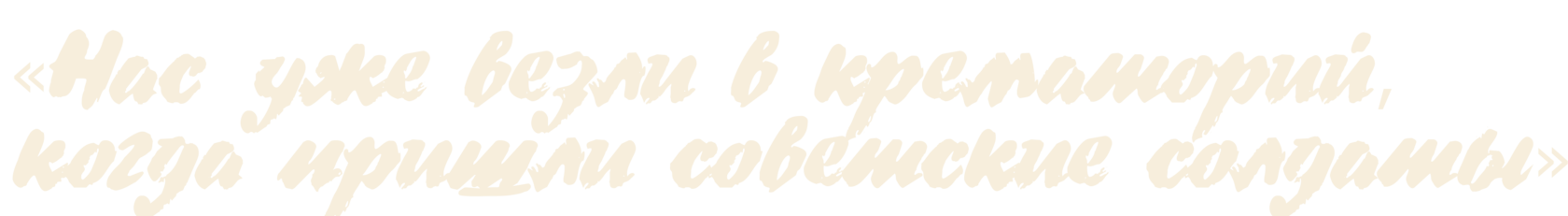
Маленький узник концлагеря
«Я не помню войны, знаю о ней только по рассказам мамы, ведь я родился 23 мая 1941 года. В июне 1943-го нас отправили в товарных вагонах в Германию. Мама вспоминала, что люди ехали стоя: ни прилечь, ни присесть не было места. Всю дорогу их не кормили. Многие умирали от голода, и их трупы продолжали стоять среди живых до тех пор, пока поезд не тормозил на станции – тогда тела выносили. Освободившиеся места заполняли другими людьми».

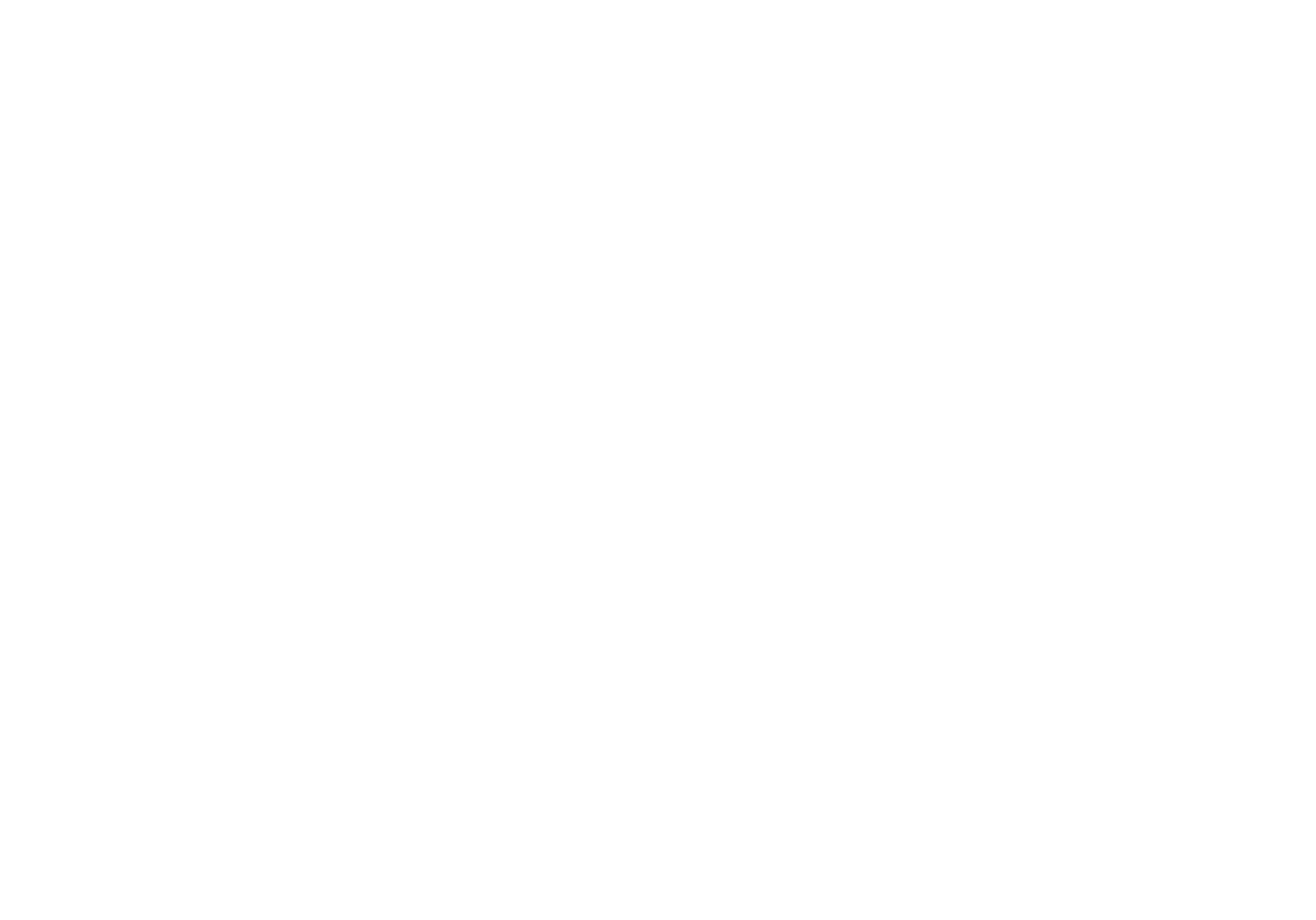
«Мы приехали в город Хемниц в лагерь-распределитель, затем – в лагерь Бататэнштейн. Там дети жили отдельно от родителей. Встречались мы только по выходным. На детей пайки не выдавали. Родители кормили нас своими. Помню, как мама подзывала меня через стенку барака и тайком подсовывала под двери кусочки хлеба.
Вскоре нас перевели в другой лагерь, в городе Йохангеоргенштадт. В декабре 1944 года, когда мне уже было 3 года и 7 месяцев, мама попробовала вместе со мной бежать из лагеря. Но ее заметили и начали стрелять. Меня ранили в руку, ее – в ногу. Нас отправили в больничный барак в город Ауэ. Моя рука заживала, в больничном бараке меня продолжали держать, чтобы брать кровь для солдат. Вокруг было много людей из разных стран. Поскольку я был единственным ребенком из них, то все старались меня подкармливать. В бараке стоял очень сильный запах крови. Он навсегда остался в моей памяти.
В 1945 году я должен было умереть: нас всех отправили в крематорий лагеря в Карлсбаде, но не довезли – по дороге освободили советские солдаты».
Вскоре нас перевели в другой лагерь, в городе Йохангеоргенштадт. В декабре 1944 года, когда мне уже было 3 года и 7 месяцев, мама попробовала вместе со мной бежать из лагеря. Но ее заметили и начали стрелять. Меня ранили в руку, ее – в ногу. Нас отправили в больничный барак в город Ауэ. Моя рука заживала, в больничном бараке меня продолжали держать, чтобы брать кровь для солдат. Вокруг было много людей из разных стран. Поскольку я был единственным ребенком из них, то все старались меня подкармливать. В бараке стоял очень сильный запах крови. Он навсегда остался в моей памяти.
В 1945 году я должен было умереть: нас всех отправили в крематорий лагеря в Карлсбаде, но не довезли – по дороге освободили советские солдаты».
«На моих глазах, тогда 8-летней девочки, для отца-партизана поставили виселицу, застрелили дядю и бабушку. Мама перед тем, как уйти в лес, отвезла меня к другой бабушке, и та прятала меня под кроватью, боясь предательства соседа-полицая».

Маленькая узница концлагеря

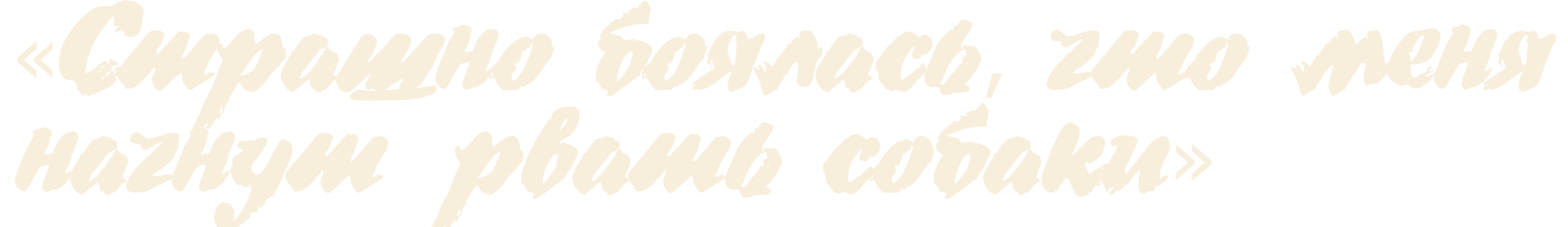
«Но от немцев меня не уберегли: попала в Красный Берег, там всех погрузили в товарные вагоны. Дети плакали. Ехали стоя. На каком-то полустанке нас всех выгрузили и под присмотром немцев с овчарками куда-то погнали. Вдоль дороги валялось много разных вещей. Я страшно боялась, что если отстану и окажусь в конце колонны, то меня начнут рвать собаки, поэтому сбросила с себя свитку. За колючую проволоку пришла полураздетая. Там какая-то женщина завернула меня в снятую с умершего одежду и посадила рядом со своими тремя детьми. Позже я узнала, что попала в концлагерь Озаричи.
Однажды утром на вышках мы не увидели немцев. Прогремели взрывы, прозвучали выстрелы, а затем нас вывезли из болота наши солдаты-освободители. Я не могла идти, меня несли.
Сейчас смотрю на 8-летних детей и думаю: как я выжила? И понимаю, что выжила благодаря добрым душам наших людей и Богу».
Однажды утром на вышках мы не увидели немцев. Прогремели взрывы, прозвучали выстрелы, а затем нас вывезли из болота наши солдаты-освободители. Я не могла идти, меня несли.
Сейчас смотрю на 8-летних детей и думаю: как я выжила? И понимаю, что выжила благодаря добрым душам наших людей и Богу».
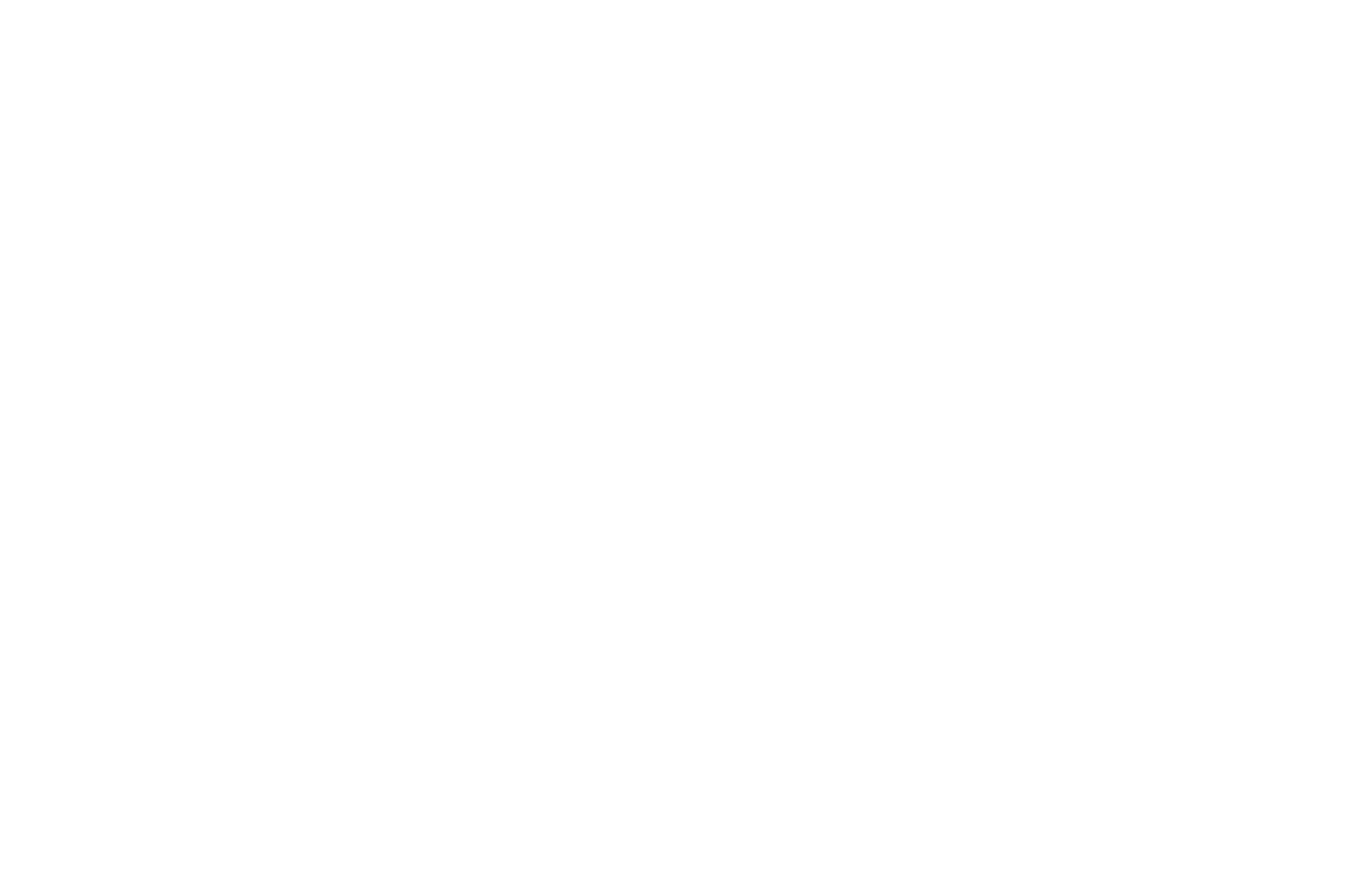
«В октябре 1943 года немцы вывесили приказ коменданта: все жители Гомеля в 3-дневный срок должны покинуть его, в противном случае – расстрел на месте. И сразу же начали поджигать и взрывать оставшиеся целые дома в центре города. После трех дней всех пойманных взорвали в казармах «военведа».



«Мы погрузили скарб на тележку и отправились по речицкому шоссе на родину отца в деревню Урицкое. Но туда нас не пустил немецкий часовой, и в деревню Борок, где мы жили до переезда в Гомель, тоже. Какое-то время пожили в рабочем бараке торфоразработчиков, потом нас отправили в Германию. Когда эшелон прибыл в пересыльный лагерь, всех тщательно проверили. Маме и брату Саше поставили на лоб печать, сказали, что их будут лечить. Немецкая девушка-надзиратель, видя мать с Левой на руках, подсказала стереть печать.
Они так и сделали, а потом вместе с нами отправились в баню. На следующее утро мы узнали, что в печи с квадратной трубой, из которой валил черный дым, горят люди, которым на лбу поставили печать.
Через день нас отправили в концлагерь, и сразу же всем детям сделали уколы. У Левы это место не заживало, рана стала гнить. Через две недели комендант лагеря отправил его в лазарет. Там мой брат пробыл около месяца, но никак не мог выздороветь. Перед смертью Лева пожаловался, что его специально положили у открытого окна и не давали ему укрыться, хотя на улице была зима. Умер он от двустороннего воспаления легких».
Через день нас отправили в концлагерь, и сразу же всем детям сделали уколы. У Левы это место не заживало, рана стала гнить. Через две недели комендант лагеря отправил его в лазарет. Там мой брат пробыл около месяца, но никак не мог выздороветь. Перед смертью Лева пожаловался, что его специально положили у открытого окна и не давали ему укрыться, хотя на улице была зима. Умер он от двустороннего воспаления легких».